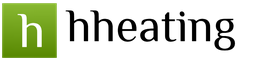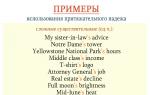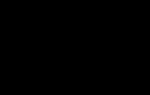ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Первое издание «Постдемократии» увидело свет в английской и итальянской версиях в 2004 году. С тех пор книга была переведена на испанский, хорватский, греческий, немецкий, японский и корейский языки. И я рад, что теперь она переведена еще и на русский язык, который полвека тому назад я учил в школе и который я всегда любил.
Не могу сказать, что моя книга где-то стала «бестселлером», но для того, кто обычно пишет академические книги, которые не привлекают внимания нигде, кроме академических журналов, непривычно, когда его книга удостаивается внимания средств массовой информации и политических комментаторов. Это касалось преимущественно немецкого, итальянского, английского и японского изданий. Это не стало для меня неожиданностью и казалось вполне объяснимым: идея постдемократии ориентирована на страны, где демократические институты глубоко укоренены, население, возможно, пресытилось ими, а элиты ловко научились ими манипулировать.
Под постдемократией понималась система, в которой политики все сильнее замыкались в своем собственном мире, поддерживая связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе и маркетинговых исследованиях, в то время как все формы, характерные для здоровых демократий, казалось, оставались на своем месте. Это было обусловлено несколькими причинами:
· Изменениями в классовой структуре постиндустриального общества, которые порождают множество профессиональных групп, которые, в отличие от промышленных рабочих, крестьян, государственных служащих и мелких предпринимателей, так и не создали собственных автономных организаций для выражения своих политических интересов.
· Огромной концентрацией власти и богатства в многонациональных корпорациях, которые способны оказывать политическое влияние, не прибегая к участию в демократических процессах, хотя они и имеют огромные ресурсы для того, чтобы в случае необходимости попытаться манипулировать общественным мнением.
· И - под действием обеих этих сил - сближением политического класса с представителями корпораций и возникновением единой элиты, необычайно далекой от нужд простых людей, особенно принимая во внимание возрастающее в XXI веке неравенство.
Я не утверждал, что мы, жители сложившихся демократий и богатых постиндустриальных экономик Западной Европы и США, уже вступили в состояние постдемократии. Наши политические системы все еще способны порождать массовые движения, которые, опровергая красивые планы партийных стратегов и медиаконсультантов, тормошат политический класс и привлекают его внимание к своим проблемам. Феминистское и экологическое движение служат главными свидетельствами наличия такой способности. Я пытался предупредить, что, если не появится других групп, способных вдохнуть в систему новую жизнь и породить автономную массовую политику, мы придем к постдемократии.
Даже когда я говорил о грядущем постдемократическом обществе, я не имел в виду, что общества перестанут быть демократическими, иначе я бы говорил о недемократических, а не о постдемократических обществах. Я использовал приставку «пост-» точно так же, как она используется в словах «постиндустриальный» или «постсовременный». Постиндустриальные общества продолжают пользоваться всеми плодами индустриального производства; просто их экономическая энергия и инновации направлены теперь не на промышленные продукты, а на другие виды деятельности. Точно так же постдемократические общества и дальше будут сохранять все черты демократии: свободные выборы, конкурентные партии, свободные публичные дебаты, права человека, определенную прозрачность в деятельности государства. Но энергия и жизненная сила политики вернется туда, где она находилась в эпоху, предшествующую демократии,- к немногочисленной элите и состоятельным группам, концентрирующимся вокруг властных центров и стремящимся получить от них привилегии.
Поэтому я был несколько удивлен, когда моя книга была переведена на испанский, хорватский, греческий и корейский. Демократии в Испании всего четверть века от роду, и кажется, что она там вполне процветает и имеет страстных сторонников как из числа левых, так и из числа правых. То же, казалось, можно было сказать и о Греции с Кореей, хотя обе эти страны имели непростой опыт политической коррупции. Надо ли считать постдемократию реальным явлением в этих странах? С другой стороны, испаноязыч-ные страны Южной Америки и Хорватия, казалось, имели не слишком большой опыт демократии. Если люди ощущали, что с их политическими системами что-то было не так, то были ли это проблемы постдемократии или же это были проблемы самой демократии?
Схожие вопросы возникают и в связи с русским изданием. Разворачиваются ли в этих новых демократиях острые политические конфликты с широким участием масс, которые ограничиваются необходимостью не выходить за пределы демократии? Или они уже перешли к состоянию, когда единая политико-экономическая элита устранилась от активного взаимодействия с народом? Русским демократам всегда было сложно бороться с теми, кто обладал огромным богатством и властью, - царской аристократией, аппаратчиками советской эпохи или современными олигархами. Значит ли это, что страна скатится к постдемократии, так и не узнав, что такое настоящая демократия? Или демократия все еще переживает становление, а борьба между ней и старым режимом далека от завершения? Сочтут ли российские читатели мою небольшую книгу чем-то, что имеет отношение к их собственному обществу, или они увидят в ней повествование о проблемах политических систем Запада?
Колин Крауч
ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга постепенно выросла из различных тревожных размышлений. К концу 1990-х в большинстве промышленно развитых стран стало ясно, что, какая бы партия ни находилась у власти, на нее постоянно будет оказываться давление со вполне определенной целью: проведения государственной политики в интересах богатых, то есть тех, кто выигрывает от ничем не ограниченной капиталистической экономики, а не тех, кто нуждается в некоторой защите от нее. Приход к власти левоцентристских партий почти во всех странах - членах Европейского Союза, который, как тогда казалось, открывал беспрецедентные возможности, не привел к сколько-нибудь значительным переменам к лучшему. Меня, как социолога, не устраивали объяснения этого со ссылками на измельчание политиков. Дело было в структурных силах: в политике не появилось ничего, что могло бы заменить собой тот вызов, который на протяжении XX века бросал интересам богатых и привилегированных организованный рабочий класс. Численное сокращение этого класса означало возвращение политики к некоему подобию того, чем она всегда была: чему-то, что служило интересам различных привилегированных слоев.
Примерно в это время Эндрю Гэмбл и Тони Райт попросили меня написать главу для книги о «новой социал-демократии», которую они готовили для журнала The Political Quarterly и Фабианского общества. Так что я развил эти мрачные мысли в статье «Парабола политики рабочего класса» (Crouch С. The Parabola of Working Class Politics // Gamble A., Wright T. (eds.). The New Social Democracy. Oxford: Blackwell, 1999. R69-83). Третья глава настоящей книги представляет собой расширенную версию этой статьи.
Как и многих других, в конце 1990-х меня также не устраивал характер нового политического класса, который сложился вокруг правительства новых лейбористов в Великобритании. На смену старым руководящим кругам в партии стали приходить пересекающиеся сети всевозможных советников, консультантов и лоббистов, представлявшие интересы корпораций, которые искали расположения со стороны правительства. Этот феномен ни в коей мере не ограничивался новыми лейбористами или Великобританией, но проявился в них наиболее ярко, потому что старое руководство Лейбористской партии в начале 1980-х было дискредитировано настолько, что на него уже можно было не обращать внимания.
Многое из того, что известно мне об устройстве политической жизни и ее связях с остальным обществом, я узнал от Алессандро Пиццорно, и когда Донателла Делла Порта, Маргарет Греко и Арпад Саколцай попросили меня написать для юбилейного сборника, который они готовили для Сандро, я воспользовался этой возможностью, чтобы развить эти мысли более строго. Получившаяся в результате статья (Crouch С. Inrorno ai partiti е ai movimenti, militanti, iscritti, profes-sionisti e il mercato//Porta D.D., Greco M., Szakokzai A. (eds.). Identita, riconoscimentom scambio: Saggi in onore di Alessandro Pizzorno. Rome: Laterza, 2000. P. 135-150) с некоторыми изменениями включена в виде главы IV в настоящую книгу.
Эти две различные темы - вакуум слева в массовом политическом участии из-за упадка рабочего класса и рост политического класса, связанного с остальным обществом по большей части только через деловые лобби, - явно были взаимосвязаны. Они также помогли объяснить то, что все большее число наблюдателей стало считать тревожными признаками слабости западных демократий. Возможно, мы вступали в эпоху постдемократии. Тогда я поинтересовался у Фабианского общества, не было бы им любопытно обсудить этот феномен. Я разработал понятие постдемократии, прибавил обсуждение того, что казалось мне ключевым институтом, стоящим за этими переменами (глобальная компания), и некоторые идеи относительно того, как обеспокоенным гражданам следует ответить на эти трудности (краткие версии глав I, II и VI). Все это вылилось в брошюру «Как совладать с постдемократией» {Crouch С. Coping with Post-Democracy. Fabian Ideas 598. London: The Fabian Society, 2000).
Показательно, что уже сейчас почти все крупные корпорации имеют интернет-сайты, на которых детально описывается то, как они представляют себе свои социальные обязательства, и оценивается работа по их исполнению. Так как эта область остается закрытой для партийных конфликтов, она будет становиться все более важной в политике гражданского общества. Поскольку многие из этих групп имеют транснациональный характер, эта сфера их деятельности может получить преимущество еще и потому, что она не стеснена национальными рамками так, как партийная политика. Тем не менее эта политика будет неудовлетворительной, поскольку она, сохраняя многие плохие привычки партий, будет лишена формального гражданского эгалитаризма выборной демократии. Группы активистов, так же как и партии, смогут привлекать к себе внимание, предъявляя завышенные требования к корпорациям, равно как и, наоборот, смыкаться с ними в обмен на какие-либо ресурсы. Эта борьба будет в высшей степени неравной. И это явно не тот режим, который желали получить как неолибералы, так и социал-демократы, но это именно тот режим, который мы, скорее всего, получим, и именно он сможет в очередной раз примирить капитализм и демократическую политику.
Наши прогнозы относительно общественного развития основаны на экстраполяции сегодняшних тенденций. Нельзя ли добиться лучших результатов и заглянуть еще дальше в будущее? Довольно скоро глобальная экономика станет нуждаться в тратах (а не только в рабочей силе) миллиардов жителей Азии и Африки. Это потребует серьезных размышлений о перераспределении покупательной способности (а отнюдь не только о повышении цен на футболки) и совершенно новом мировом режиме. Что может стать причиной возникновения такого нового класса, напоминающего в конечном счете международный пролетариат Маркса? Возможно, не его собственные идеи - куда скорее это будет радикальный ислам. Это, впрочем, станет реальной политикой не ранее чем через 30 ближайших лет.
Приватизированное кейнсианство корпорации и демократия: БЕСЕДА АРТЕМА СМИРНОВА С КОЛИНОМ КРАУЧЕМ*
* Пушкин. 2009. № 3.
Чем, по-Вашему, было вызвано появление кейнсианства в его первоначальной версии?
Первоначальное кейнсианство возникло из опыта экономических депрессий и масштабной и продолжительной безработицы, которыми характеризовались межвоенные годы в капиталистическом мире. Джон Мейнард Кейнс и некоторые шведские экономисты, мыслившие в схожем ключе и пришедшие к тем же выводам, считали, что эти депрессии были вызваны недостаточным спросом и что рынок не в состоянии был справиться с проблемой своими силами. Если потенциальным инвесторам казалось, что спрос был слабым, они просто отказывались инвестировать, что только усугубляло состояние экономики. Эти экономисты заявили, что правительство не должно сидеть и молча смотреть на происходящее: нужно было взять инициативу в свои руки и начать противодействовать кризису, увеличивая государственные расходы, когда спрос в частном секторе падал, и сокращая их, когда спрос возрастал и становился причиной инфляции. Во многих странах правительства в межвоенные годы были слишком слабыми, чтобы проводить политику, которую предлагал Кейнс. Но укрепление государства всеобщего благосостояния в скандинавских странах с середины 1930-х создало возможности для роста государственных расходов. В Британии Вторая мировая война и резкий рост военных расходов развязали правительству руки; после окончания войны правительство не от-кзалось от дефицитных расходов, которые теперь уже шли не на вооружение и содержание армии, а на создание государства всеобщего благосостояния. В разных странах история развивалась по-разному, но на протяжении первых тридцати послевоенных лет в капиталистическом мире существовал консенсус, что правительства должны использовать государственные расходы для защиты экономики от депрессии и инфляции.
Этот политический подход был тесно связан с ростом влияния рабочего класса в капиталистических странах. И на то были веские причины. Во-первых, рабочие больше всего страдали от экономической депрессии и безработицы. Во-вторых, они были главными получателями государственных расходов, а потому при введении новых программ расходов и налогов правительство всегда могло опереться на их поддержку. В-третьих, хотя кейнсианство было стратегией защиты или даже спасения капиталистической экономики, оно предусматривало активную роль правительства. А политика правительства была гораздо ближе к той, что пользовалась поддержкой социал-демократических партий и профсоюзов, чем к той, которую одобряло большинство буржуазных партий, хотя последние довольно быстро приспособились к новым условиям.
Что же заставило правительства отказаться от такой, казалось бы, продуктивной политики?
Эта история хорошо известна: их заставил пойти на это внезапный скачок цен на нефть и другое сырье в 1970-х. Инфляция, которую вызвал этот рост цен, требовала резкого сокращения, а не роста государственных расходов. Использовать для этого управление спросом было политически невозможно. Это был звездный час для критиков кейнсианства, веривших в превосходство свободных рынков без государственного вмешательства. Люди с такими взглядами начали определять экономическую политику во многих странах. Важно иметь в виду, что их приход к власти стал возможен только благодаря тому, что тогда, в конце 1970-х - начале 1980-х, промышленные рабочие перестали составлять значительную часть населения (а большинством они не были никогда). Произошло сокращение их численности, начали появляться новые виды занятости, и у тех, кто был с ними связан, уже не было четких политических предпочтений. Тогда-то кейнсианство и оказалось в глубочайшем кризисе: его методы не работали, а его политическая поддержка испарилась. Идея государственного управления совокупным спросом уступила место подходу, ставшему известным как неолиберализм.
Внешне неолиберализм был довольно жесткой доктриной: единственным средством борьбы с рецессией и высокой безработицей считалось снижение заработной платы до тех пор, пока она не станет настолько низкой, что предприниматели начнут снова набирать работников, и цены станут настолько низкими, что люди начнут снова покупать товары и услуги. Здесь начинается самое интересное: не будем забывать, что современный капитализм зависит от расходов массы наемных работников, которые платят за товары и услуги. Как можно поддерживать спрос у людей, которые постоянно вынуждены жить в страхе лишиться работы и средств к существованию? И как вообще двум странам, наиболее последовательно проводившим неолиберальную политику, - Британии и США - удавалось поддерживать уверенность потребителей на протяжении целого десятилетия (1995-2005), когда неолиберализм достиг своего расцвета?
Ответ прост, хотя он долгое время не был очевиден: потребление наемных работников в этих странах не зависело от положения на рынке труда. У них появилась возможность брать кредиты на невероятно выгодных условиях. Этому способствовало два обстоятельства.
Во-первых, большинство семей в этих и многих других западных странах брали кредиты на покупку жилья, а цены на недвижимость год от года росли, создавая у заемщиков и кредиторов уверенность, что эти кредиты надежны. Во-вторых, банки и другие финансовые институты создали рынки так называемых производных ценных бумаг или деривативов, на которых продавались долги, а риски, связанные с кредитами, распределялись среди множества игроков. Вместе эти два процесса привели к тому, что стало возможно предоставлять все большие кредиты все менее состоятельным людям. Нечто подобное, хотя и в меньшем масштабе, имело место с долгами по кредитным картам. В конце концов выросла огромная гора ничем не подкрепленных долгов. Банки утратили доверие друг к другу, и наступил финансовый крах.
Так что неолиберализм не был такой уж жесткой доктриной, какой казался. Если кейнсианство поддерживало массовый спрос за счет государственного долга, то неолиберализм попал в зависимость от гораздо более хрупкой вещи: частных долгов миллионов относительно бедных граждан. Долги, необходимые для поддержки экономики, были приватизированы. Поэтому я и называю режим экономической политики, при котором мы жили последние пятнадцать лет, не неолиберализмом, а приватизированным кейнсианством.
Будем реалистами: предложения радикальных левых и правых не встретят поддержки избирателей, да и правительствам они неинтересны. Никто не собирается переходить к социализму, а поскольку для сохранения капитализма нужно иметь уверенных потребителей, то режим приватизированного кейнсиан-ства сохранится, хотя и в преобразованном виде.
Распространенные страхи перед национализацией банков и крупных компаний едва ли оправдаются, так как в этом не заинтересованы ни правительство, ни сами банки. Скорее всего, ими будут управлять немногочисленные копрорации, признанные достаточно ответственными. Постепенно мы придем к более согласованной системе, основанной на добровольном регулировании и управляемой небольшим числом корпораций, поддерживающих тесные связи с правительством.
общество политика постиндустриальный крауч
Политика в условиях постиндустриального общества переживает трансформацию связанную с трансформацией традиционных демократических институтов, кризисом идентичностей, отказом от многих положений классической демократии.
Понятие постдемократия используется Для анализа современности используется понятие постдемократии, для которой характерны следующие черты: существование видимости народа, существование народа как неопределенной единицы и наличие места видимости народа в месте ведения спора. При постдемократии существует консенсусная система, состоящая из режима мнения и режима права, при этом народ есть сумма его частей (индивидов, предпринимателей, социальных групп и т.д.), и политика исчезает. Конец политики есть последний этап метаполитики и конец политической философии. Конец политики и возвращение политики в скрытой форме обозначают одно и то же - упразднение политики через консенсус.
Понятие постдемократия не новое, оно было введено Рицзи и Шааль обозначения пост-демократию как «в этом смысле [как] фиктивная демократия в институциональной форме полноправной демократии».
Хотелось бы отметить работу К. Крауча «Постдемократия» - именно так британский профессор социологии и определяет сложившуюся сегодня модель демократии. К. Крауч также говорит о трех этапах в развитии демократии и о своеобразном возврате современной демократии к демократии «представительной» или опосредованной. Концепция «постдемократии» К. Крауча так же направлена на объяснение причин «болезни» демократии и демонстрацию того, к чему может привести дальнейшее развитие симптомов этой «болезни».
Под идеально-типичные пост-демократической политической системы он понимает «сообщество, находятся в то время как проводится в преддверии выборов, выборов, которые даже вызывают, что правительства должны брать отпуск, в котором, однако, конкурирующих команд профессиональных пиарщиков, общественное обсуждение во время избирательные кампании управлять настолько сильным, что она вырождается в простой спектакль, в котором только обсуждался ряд вопросов, которые ранее выбранных экспертов. Большинство граждан играет пассивную, тихую, и даже апатичным роль, они только реагировать на сигналы вы даете им. В тени этой политической постановки реальная политика делается за закрытыми дверями: От избранных правительств и элит, которые представляют в первую очередь интересы экономики »
Сам Крауч определяет постдемократию как состояние апатии, усталости и разочарования, охватившее приверженцев демократии и народные массы, ситуацию, когда заинтересованное сильное меньшинство активно вливается в политику, берет ее в свои руки, когда элиты манипулируют народными требованиями в своих интересах. Но постдемократия не означает смерть демократии или ее отрицания, это скорее эволюционные изменения, когда проявляются новые факторы, раздвигающие прежние границы понятия, выходящие за них. Политика неолиберализма пишет Крауч до: «Чем больше государство изымает из заботы о жизни простых людей и признает, что это раковина в политической апатии, тем легче бизнес-ассоциации могут это - более или менее незамеченным - сделать это магазином самообслуживания. Неспособность признать это фундаментальная наивность неолиберальной мышления ».
Крауч посвящает параграф данной проблема «демократический момент». Он указывает, что общество находится в состоянии наиболее близком к максимуму демократии в первые годы ее завоевания или кризиса режимов: «когда восторженное отношение к демократии было широко распространено, когда множество различных групп и организаций простых людей сообща стремились выработать политическую программу, отвечающую тому, что их волновало, когда влиятельные группы, которые доминировали в недемократических обществах, находились в уязвимом положении и вынуждены были обороняться, и когда политическая система еще не вполне разобралась с тем, как управлять и манипулировать новыми требованиями».
Рассматривая тенденции развития современной политической жизни Колин Крауч, вводит новое понятие для обозначения политической системы, сложившийся в современном западном мире. В качестве обозначения данной системы приводится понятие «Постдемократии». «Под постдемократией понималась система, в которой политики все сильнее замыкались в своем собственном мире, поддерживая связь с обществом при помощи манипулятивных техник, основанных на рекламе и маркетинговых исследованиях, в то время как все формы, характерные для здоровых демократий, казалось, оставались на своем месте» - утверждает Крауч.
Идея «пост-» регулярно всплывает в современных дискуссиях: мы любим рассуждать о постиндустриализме, постмодерне, постлиберализме, постиронии. Однако она может означать нечто весьма конкретное. Здесь самое существенное - упомянутая выше мысль об исторической параболе, по которой движется феномен, снабженный префиксом «пост-». В представлении Крауча «пост-» имеет стадиальную характеристику. Предлагается заменить термин демократия, на термин индустриальное, в качестве иллюстрации.
«Временной период 1 - это эпоха «пред-х», обладающая определенными характеристиками, которые обусловлены отсутствием х. Временной период 2 - эпоха расцвета х, когда многое им затрагивается и приобретает иной вид по сравнению с первым периодом. Временной период 3 - эпоха «пост-х»: появляются новые факторы, снижая значение х и в некотором смысле выходя за его пределы; соответственно, некоторые явления становятся иными, нежели в периоды 1 и 2. Но влияние х продолжает сказываться; его проявления по-прежнему хорошо заметны, хотя кое-что возвращается в то состояние, каким оно было в период 1». Но это не прямое возвращение к началу ХХ века. Сегодня мы находимся в иной точке исторического времени. «Скорее, демократия описала параболу» и мы выходим на другую ее ветвь. В современном мире рабочий класс численно сокращается, массы отходят на второй план, а «энергия и жизненная сила политики» возвращается к немногочисленной элите.
«Я никоим образом не имел в виду крах демократии. Приставку «пост-» я использовал в том же смысле, в каком ее используют в терминах «постиндустриальный» или «постмодернистский», то есть это нечто, что происходит после периода, обозначенного второй частью слова, что использует его ресурсы, но не обновляет его, а вместо этого переводит его в некое новое состояние» - отмечает К. Крауч в своем интервью для «Русского журнала».
«Я не утверждал, что мы, жители сложившихся демократий и богатых постиндустриальных экономик Западной Европы и США, уже вступили в состояние постдемократии. Наши политические системы все еще способны порождать массовые движения, которые, опровергая красивые планы партийных стратегов и медиаконсультантов, тормошат политический класс и привлекают его внимание к своим проблемам. Феминистское и экологическое движение служат главными свидетельствами наличия такой способности. Я пытался предупредить, что, если не появится других групп, способных вдохнуть в систему новую жизнь и породить автономную массовую политику, мы придем к постдемократии».
Следуя логике К. Крауча, можно выделить еще одну причину наступления современной демократии. Это снижение политического значения трудящихся в связи с изменениями в структуре занятости. А ведь именно рабочие были главной движущей силой в политических процессах ХХ века. Изменения в классовой структуре постиндустриального общества, породили множество профессиональных групп, которые, в отличие от промышленных рабочих, крестьян, государственных служащих и мелких предпринимателей, так и не создали собственных автономных организаций для выражения своих политических интересов. Индивидуализация труда «белых воротничков» не способствует кооперации и отстаиванию своих политических интересов.
Повышение производительности труда и технологическое усовершенствование производства повлияли на снижение числа рабочих и, как следствие, политическую маргинализацию пролетариата. Рабочий класс потерял ту силу, которая позволяла ему воздействовать на власть. Другие же классы так и не смогли обрести единство и создать собственных организаций для выражения своих политических интересов. Они пассивны, с безразличием относятся к общественной жизни и легко поддаются манипуляции.
В своей работе «Демократия и сложности», Дзоло солидаризируется с мнением Крауча: концентрация власти и богатства в многонациональных корпорациях, как следствие их способность оказывать политическое влияние, не прибегая к участию в демократических процессах, хотя они и имеют огромные ресурсы для того, чтобы в случае необходимости попытаться манипулировать общественным мнением.
Могут сказать, что демократия переживает сегодня один из своих самых блестящих периодов. Речь идет не только о распространении выборных правительств во всем мире, но и о том, что в так называемых развитых странах политики все реже пользуются почтением и некритическим уважением публики и СМИ, чем прежде. Правительство и его секреты все чаще обнажаются перед демократическим взором. Постоянно раздаются призывы к все более открытому правительству и к конституционным реформам, которые должны сделать правительства более ответственными перед народом. Конечно, мы живем сегодня в более демократическую эпоху, чем во время «демократического момента» третьей четверти XX столетия. Политики тогда незаслуженно пользовались доверием и уважением наивных и почтительных избирателей. То, что, с одной стороны, кажется манипулированием общественным мнением сегодняшними политиками, с другой стороны, можно считать заботой политиков о взглядах чутких и сложных избирателей, что заставляет этих политиков тратить немалые средства на выяснение того, что же думают избиратели, а затем возбужденно на это реагировать. Конечно, политики сегодня озабочены формированием политической повестки больше, чем их предшественники, предпочитая опираться на маркетинговые исследования и опросы общественного мнения.
В работе Крауча, данный вопрос поднимается в обсуждении негативного и позитивного гражданского активизма. «По первому представлению имеется позитивное гражданство, когда группы и организации сообща создают коллективные идентичности, осознают интересы этих идентичностей и самостоятельно формулируют требования, основанные на них, которые они предъявляют политической системе. По второму - негативный активизм обвинений и недовольства, когда главной целью политики оказывается призыв политиков к ответу, когда их голову кладут на эшафот, а их публичный образ и частное поведение подвергаются тщательному изучению». Крауч соотносит виды активности с позитивными и негативными правами. К позитивным правам он относит возможность участия граждан в жизни своего политического сообщества: право голоса, создания и членства в организациях, получения достоверной информации. К негативным правам - это права, которые защищают индивида от других, особенно от государства: права на защиту в суде, права на собственность.
Демократия нуждается в обоих этих подходах к гражданству, но в настоящее время все большую роль играет негативная составляющая. Это вызывает особое беспокойство автора, потому что именно позитивное гражданство отвечает за созидательность демократии. С пассивным подходом к демократии негативную модель, при всей ее агрессии против правящего класса, объединяет идея, что политика, по сути, является делом элит, которых недовольные наблюдатели обвиняют и стыдят, обнаруживая, что те допустили какую-то провинность. Таким образом, в сознании граждан формируется представление о политике как уделе «немногих». Виня в негативной ситуации официальное должностное лицо, гражданин а приори отдает ему право на политическое влияние.
Наконец, могут задать вопрос о силе движения к «открытому правительству», прозрачности и открытости для расследований и критики, что можно было бы считать важным политическим достижением неолиберализма за последнюю четверть XX столетия, если бы эти шаги не сопровождались мерами по усилению государственной безопасности и секретности.
Крауч утверждает что «век партий» в традиционном их виде закончен. К. Крауч отмечает, что политика персонализируется и обращает внимание на трансформацию партий. Партии в современном мире больше похожи на группы элиты и профессионалов, которые отдаляются от населения и попадают в зависимость от больших корпораций. К. Крауч отмечает, что корпорации играют сегодня ключевую роль на политической арене и определяют ход политических процессов.
В условиях постдемократии партии, снова становятся самовоспроизводящимися элитарными группами, как это было в додемократическое время, но с поправкой на развитие демократии и коммуникации, так как современные партии все-таки не могут жить без поддержки электората. Но изменяется характер взаимоотношений партийной верхушки и потенциальных избирателей за счет привлечения к работе с электоратом профессионалов - «агитаторов», действующих отстраненно через СМИ и медиа, вместо активистов-любителей, которые действовали напрямую и были более заинтересованы в результатах своей работы.
По мнению К. Крауча, новые движения станут важным источником энергии масс, что так необходимо сегодняшней демократии. Среди других советов по сохранению демократии К. Крауч называет необходимость поддержки партий, которые остаются важными игроками на политической арене и необходимость непосредственного контакта с корпорациями и контроль за их действиями.
Политики и политические партии действуют через средства массмедиа для привлечения электората, причем они стараются работать на обеспечение хотя бы минимальной поддержки, а не на повышение заинтересованности граждан в политике и реализации своих политических прав.
Кроме того, находясь под сильнейшим влиянием властей, СМИ с легкостью формирует удобную для себя повестку дня, фильтруя и дозируя исходящую политически значимую информацию, навязывая общественному вниманию те или иные темы, направляя непосвященных во все политические хитросплетения потребителей «по ложному следу», создавая некий отвлеченный предмет для обсуждения. Тем самым либо уходя от ответа на насущные и действительно важные и сложные вопросы, либо скрывая за этим более радикальные действия, публичное обсуждение которых было бы не желательным для них.
Крауч выделяет следующие симптомы наступающей постдемократии: 1) усиление роли крупных корпораций и бизнеса, которые обладают огромными ресурсами и финансами, с помощью которых могут не только заниматься лоббированием своих интересов, но сосредоточить политическую власть в своих руках, поставить политиков в зависимость от своих ресурсов; 2) популизм и персонализация власти, когда личность политика становится важнее обсуждения проблем и конфликтов (здесь очень показательны примеры С. Берлускони, А. Шварценеггера), что связано с изменением характера политической коммуникации, манипуляцией политическими требованиями и т.д.; 3) коммерциализация политической сферы и стремление внедрить рыночные отношения в социальную (здравоохранение, образование и др.), теперь многое из того, что раньше делало государство, взяли на себя компании, государство перестает отвечать за реализацию политики; 4) сильнейшая апатия масс, которые становятся все более аполитичными, которых устраивает спектакль вместо выборов и которые не стремятся к реализации своего права на участие в политической жизни страны; 5) усиление роли СМИ в формирование политической повестке дня, превращение их в «шоу», ориентированное на усвоение «готовой» политической информации без ее критической переработки.
Помимо распространения практики насаждения определенной точки зрения и формирования повестки дня, развитие информационных и коммуникационных технологий приводит к профессионализации политической сферы и сферы коммуникации, повышению роли образования, причем специфического образования. А это означает все растущий разрыв между некомпетентными массами и «специально обученными» специалистами, которые не спешат делиться своими знаниями с большинством, да и самому большинству это не нужно. Получается, что большая часть граждан совершенно не стремится вникать в процессы, которые происходят в их стране, «плывет по течению», принимая спускаемые сверху решения как данность, что и приводит к большой доле маргинализации и политической апатии, о которых уже говорилось выше. Таким образом, гражданин превращается в потребителя информационных услуг, предоставляемых государством, и в какой-то мере становится марионеткой, которую буквально за руку ведут на избирательный участок ставить галочку за того, кого уже выбрала сама власть или те, от кого власть зависит.
Данные перспективы выглядят крайне опасными с точки зрения влияния на традиционные представления о демократии. Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что развитие СМИ, Интернета, медиа, должно способствовать укреплению одной из основополагающих демократических свобод - свободы слова, высказывания личного мнения. Свобода слова в таких условиях существует лишь до тех пор, пока и в той мере, в которой это выгодно олигархическим и бюрократическим структурам. Их власть строиться на манипулировании информационными потоками, которое становится едва ли не основным инструментом реализации их политической воли, которая, как правило, не носит демократический характер. Как следствие, эффективным средством достижения и процветания демократии может стать возвращение первоначального смыслового наполнения понятию «свобода слова» в форме свободных СМИ, независимости информационной сферы от посягательств транснациональных корпораций и государственных политических элит.
Таким образом, развитие демократии, согласно Краучу, движется по параболе - если в середине XX века был пик демократического развития, то сейчас оно сдвигается вниз по ветке параболы, в какой-то мере возвращаясь к прежней додемократической структуре, видоизмененной в силу времени.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Подобные документы
Представления о гражданском обществе в западной политической мысли. Необходимое условие функционирования гражданского общества, его сущность и предпосылки становления. Пути формирования гражданского общества на Западе и в России, легитимация его идей.
курсовая работа , добавлен 17.08.2015
Причины возникновения гражданского общества. Условия существования гражданского общества. Структура гражданского общества. Особенности основных направлений развития гражданского общества. Проблемы и пути развития общества.
реферат , добавлен 12.06.2007
Тенденции политического развития. Методологические подходы к изучению истории политических теорий. Возникновение и развитие политических идей в России. Проблемы национальной политики. Пути повышения политической активности граждан российского общества.
контрольная работа , добавлен 16.11.2008
Элвин Тоффлер - американский социолог, философ и публицист-футуролог. Концепция постиндустриального общества. "Метаморфозы власти". Картина организационной агонии. Поиск новых способов организации. Борьба между политиками и бюрократами.
эссе , добавлен 16.12.2006
Понятие субъектов политики, их потребности и интересы, элементы социально-классовой структуры общества. Социальная структура современного российского общества и ее отражение в политике. Особенности современного либерализма как политической идеологии.
контрольная работа , добавлен 25.07.2010
реферат , добавлен 02.11.2005
Правовой характер гражданского общества, его соответствие высшим требованиям справедливости и свободы. Основы гражданского общества в экономической, политической и духовной сфере. Главная цель функционирования современного гражданского общества.
презентация , добавлен 16.10.2012
Политика, её сущность и функции. Характеристика политики через различные общественные явления: экономику, право, мораль, культуру. Ее роль в функционировании и развитии общества. Развитие политологии в тесной взаимосвязи с рядом других общественных наук.
контрольная работа , добавлен 15.03.2011
Постдемократия как предостережение и реальность
Рассуждая о постдемократии, хочется перефразировать мудрый советский анекдот таким образом: тоталитаризма не будет, но будет такая борьба за демократию, что от нее не останется камня на камне. Сохраняя все внешние признаки, демократия утратит то содержание, о котором обычно пишут в учебниках, и которое в достаточно короткий период можно было найти в реальной жизни западного общества (50-70-е годы XX века). Уже привычная приставка «пост»- свидетельствует о неустойчивом, промежуточном, переходном состоянии современного общества. Мы уже покинули привычные координаты, но еще не обрели новых форм существования. Многие авторы пишут о трансформации демократии в последние десятилетия. По мнению Хардта и Негри, «нынешний кризис демократии связан не только с коррупцией и неэффекивностью (…) Отчасти это вызвано тем, что по-прежнему не ясно, что же вообще означает демократия в мире, подвергнутом глобализации» . С одной стороны, мы имели дело в 90-е годы с триумфальным шествием демократии по всему миру. Казалось, что и от нас зависит то, в какой стране и в каком мире мы будем жить в ближайшем будущем. Постепенно иллюзия начала рассеиваться. Демократический порыв 90-х гг., «конец истории», объявленный Ф. Фукуямой, оказался хорошо срежессированным спектаклем.
Массам там была отведена заметная роль, но развитие событий, в основном, зависело от сценаристов и от главных действующих лиц, входящих в политическую и экономическую элиту. Об этом, в частности, убедительно написано в книге Н. Кляйн «Доктрина шока», где отдельная глава посвящена реформам в России. За пределами Запада устанавливается демократия, копирующая лишь внешние формы западных политических систем, не затрагивающая ключевые механизмы управления общественным процессом. Появились и специфические термины, например, «управляемая демократия». Либеральный оптимизм 90-х годов сменяется разочарованием и достаточно пессимистичными прогнозами на будущее. В настоящее время трансформация демократии описывается очень разными эпитетами: постмодерная демократия, сетевая демократия, информационная демократия, медиа-демократия, имитационная демократия, манипулятивная демократия или даже тоталитарная демократия. Здесь можно вспомнить и отечественные термин «суверенная» демократия. Постдемократия — термин обобщающий. Также его можно считать скорее полемическим, чем содержательным. В 2000-е этот термин употреблялся всё чаще, но нередко без особой смысловой нагрузки.
Такая система предоставляет право нам самостоятельно решать, «какой формы невыбора нам свободно и рационально придерживаться. Обществу, власти, социальным институциям совершенно безразлично, какой образ жизни ведут индивидуализированные субъекты, чем они занимаются и какие цели преследуют. От принятого субъектом решения абсолютно ничего не зависит (…)» Возникает иллюзия свободы и демократии: «контролируемая вседозволенность и ни к чему не обязывающий плюрализм»5 . Постдемократия выработала свои собственные механизма избегания и нейтрализации острых общественно-политических дискуссий. СМИ формируют общую «повестку дня» (agenda). Определённые темы «вбрасываются» в общественное мнение и здесь уже не так важно «за» или «против» высказываются участники, достаточно того, что эта тема попала в общественное сознание, перестала быть чем-то непривычным и даже шокирующим. Политкорректность, господствующая в западном мире позволяет избежать неприятных поворотов в дискуссиях, отсекать те мнения, которые кажутся слишком радикальными, это и есть тот самый ни к чему не обязывающий плюрализм, о котором было сказано выше6 . По словам российского социолога Л. Ионина политкорректность выполняет две основные функции: «она служит обоснованию внутренней и внешней политики (…) западных государств и союзов, а с другой стороны – подавлению инакомыслия и обеспечению идейного и ценностного консенсуса. (…) политкорректность служит легитимации внутренней и прежде всего внешней политики»7 . Ко всему этому арсеналу средств следует ещё добавить «шоковую терапию» – любимое средство неолиберальных экономистов. Она дезориентирует население, вызывает иррациональную реакцию, парализует волю к борьбе. Наоми Кляйн в своей знаменитой книге «Доктрина шока» называет такую модель «капитализмом катастроф». Здесь используются как природные, так и рукотворные катастрофы для реализации экономических моделей, служащих интересам крупнейших корпораций. Колин Крауч констатирует, что в отношении современных социальных процессов пока нет никакой ясности, но можно выявить определенные тенденции развития общества. По его словам, новая политическая форма, сохраняя отдельные черты классической демократии, изменяет содержание политического процесса.
В условиях постдемократии формируется единое политическое пространство, не ограниченное рамками национальных государств. Здесь указывается на возрастающее влияние корпораций, усиливающих свою экономическую мощь и приобретающих политическое влияние, а также на распад классовой структуры эпохи модерна. Различные профессиональные группы оказываются изолированными и неспособными к самоорганизации. По словам английского социолога, сейчас за «спектаклем электоральной игры разворачивается непубличная реальная политика», а предвыборные дебаты и сами выборы превращаются в «тщательно срежиссированное представление». Ещё одно проявление постдемократии состоит в том, что происходит сильное сужение круга лиц, принимающих решения, серьезные обсуждения общественных проблем и поиск компромиссных решений заменяется рекламными слоганами, за которыми часто скрывается прямо противоположный смысл. Можно заметить, что неолиберальные политические и экономические решения часто оформляются вполне социалистическим лозунгами. Разрушение общественных институтов часто преподносится как верность традициям. Политические программы вообще теряют значение, как это было на последних президентских выборах в России. Они превращаются в набор противоречащих друг другу тезисов. Либеральные экономисты часто связывали будущее с ограниченным правительством в неограниченной экономике и «сводили демократическую составляющую к проведению выборов». Однако, как замечает автор, чем больше государство уходит из обеспечения жизни простых людей, порождая у них апатичное отношение к политике, тем легче корпорациям использовать государство в своих целях. Можно заметить в скобках, что обычно это выражается в известной формуле: приватизация прибыли и национализация убытков. При этом Крауч надеется, что в странах с сильными демократическими традициями основные права и свободы сохранятся и в новых условиях. В большей опасности находятся страны с несформировавшейся демократии, здесь ростки демократии могут полностью исчезнуть. Еще одним существенным явлением является стирание границ между государством и рынком.
Интересы государства и корпораций теперь очень часто неразрывно взаимосвязаны. Наоми Кляйн описывает это, приводя множество фактов, на примере восстановительных работ в Новом Орлеане и после войны в Ираке. Здесь многие функции государства были переданы частным компаниям. На этих подрядах окологосударственный бизнес заработал колоссальные деньги. Данные примеры нам хорошо знакомы и по российской действительности. По словам Крауча, процесс развития рыночной является необратимым. Местами его критика «корпоратократии» (термин историка А. Фурсова) напоминает скрытую рекламу. В частности, в ряде интервью он заявлял, что «корпорациям нет альтернативы». Приведу его слова из интервью «Русскому журналу»: «Ни экономика малого бизнеса, ни экономика, контролируемая государством, не способны дать нам то процветание, которого мы все жаждем»9 . Заметим, очень сомнительное утверждение, что мы все «жаждем» одинакового процветания. Создаётся ощущение, что данный процесс не имеет какой-либо альтернативы. Выход, который видит Крауч, — это общественные инициативы по контролю за корпорациями. Они должны, по его мнению, стать «социально ответственными», то есть выполнять ряд функций национального государства. Корпорации способны ослабить традиционные демократические институты. Они окажутся декоративными, не играющими существенной роли в развитии общества. Официальную политику же в этой системе полностью контролируют политические и деловые элиты. Взаимосвязь между обществом и политическими элитами ослабевает. Политические лидеры изолируются от общества, охраняемые современными электронными системами безопасности. Энергия масс, в свою очередь, может найти другой выход. Крауч видит решение проблемы в выходе политики за национальные границы.
О том же самом, кстати говоря, в последнее время писал и Ульрих Бек, призывая создать глобальное гражданское общество, способное влиять на деятельность крупнейших ТНК, например, отказываясь покупать продукцию данных компаний. Определенные возможности даёт и интернет, способный формировать общественное мнение. Крауч характеризует нынешнюю ситуацию как неустойчивое равновесие, открывающее возможности для новых форм демократии. Во второй известной книге «Странная не-смерть неолиберализма» он пишет о достаточно необычном феномене. Экономический кризис, который переживает в настоящее время глобальная экономика, во многом обусловлен тотальной победой неолиберальных подходов в экономике, всевластием финансовых рынков и устранением государства. Казалось бы, кризис должен привести к смене экономического курса, как это было в 30-е годы. Но, по словам Крауча, неолиберализм в последние годы только укрепился и приобрел политическую власть, которой ранее не обладал. Это выражается в возросшей роли корпораций, в особенности финансовых. Противопоставление рынка и государства он считает устаревшим, поскольку отношения между политикой и экономикой стали гораздо более сложными. Рынок, как и демократия тоже подвергся воздействию глобальных корпораций. Речь даже не идет о трехстороннем столкновении государства, рынка и корпораций, а о «удобном приспособлении».
Представители неолиберализма (чикагской экономической школы) содействуют «могущественному объединению частной экономической власти и власти государства». Государство применяется для защиты интересов этих компаний11 . В отдельной главе «приватизированное кейнсианство» он пишет о том, как постепенно соединялась социальная деятельность государства с интересами крупных компаний. Парадокс нынешней системы состоит в том, что «коллективное благосостояние можно обеспечить, только позволив небольшому числу индивидов слишком богатыми и политически могущественными». Логика этой системы достаточно абсурдна, это настоящая ловушка для общества. Правительства вынуждены сокращать важнейшие социальные расходы ради того, чтобы успокоить финансовые рынки, встревоженные объемом государственного долг, хотя дельцы на этих рынках – это те самые люди, которые нажились на спасении банков и начали выплачивать себе огромные бонусы» .
В ряде своих интервью английский социолог выражал удивление, почему его книги переводят и изучают в странах, где демократии либо вообще не было, либо её ростки очень слабы, имея в виду и Россию. Ответ очевиден, нам интересно, что думают «они» сами о своих политических системах. Книги Крауча важны не столько оригинальностью идей, сколько совпадением ряда положений современной академической мысли с тем, что пишут и более радикальные европейские аналитики и многие российские авторы, наблюдая развитее современной политической системы под несколько иным углом зрения. По сути постдемократия – уже не предостережение, она стала реальностью не только для нас, но и для западного мира. Следует согласиться с английским аналитиком, она представляет собой весьма неустойчивое состояние, оно открывает возможности и для нового тоталитаризма, и для реализации демократического потенциала совершенно новым путём, для создания самых неожиданных коалиций и поиска новых средств влияния на политические элиты. Вряд ли можно надеяться на появление «ответственных корпораций» по Краучу, поскольку их деятельность транснациональна, непрозрачна и подчинена неумолимой бизнес-логике. Скорее национальное государство, вроде бы уже списанное со счетов западными учёными, при поддержке общества может ещё сказать своё веское слово…
Логинов А.В. кандидат философских наук, Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва, Российская Федерация